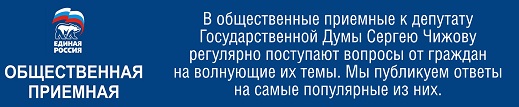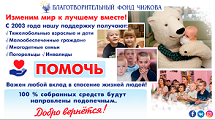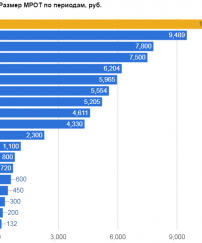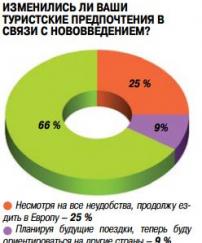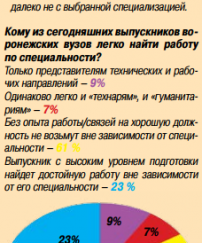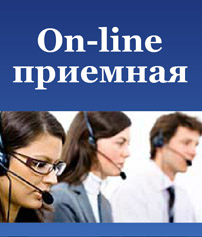«Крамольный лектор»
Александр Афанасьев родился 11 июля 1826 года в городке Богучары Воронежской губернии. Детство провел в Боброве, куда по долгу службы направили его отца – мелкого судебного чиновника. Здесь, по воспоминаниям будущего ученого, «слушая рассказы какой-нибудь дворовой женщины», он впервые оценил поэзию народной сказки, с ее волшебными приключениями, мудростью и лукавством. Потом была учеба в Воронежской гимназии, после окончания которой он по настоянию отца поступил на юридический факультет Московского университета. Юноше из семьи с весьма скромным достатком покорять Первопрестольную было непросто. Однако Афанасьев не ограничивался одними университетскими лекциями и, экономя на всем, умудрялся покупать книги. Особенно его интересовала история родной страны. Он даже задумывался о преподавательской карьере, но этим планам не было суждено сбыться: в 1848 году выпускнику-Афанасьеву доверили прочитать лекцию, на которой присутствовал министр народного просвещения Уваров и тот усмотрел в ней «крамольные» демократические намеки…
Начало «сказочной карьеры»
Вынужденный отказаться от преподавания, Афанасьев поступил службу в Главный архив министерства иностранных дел, но исторических изысканий не оставил. Его исследования по народному быту публиковались в популярнейших российских изданиях «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник»… Вскоре ученый-энтузиаст был избран членом Русского географического общества (РГО), в фондах которого скопилось немало сказок, записанных в разных уголках России. У Афанасьева возникла идея их систематизировать, дополнить и опубликовать. Так началась его «сказочная деятельность».
Глас народа
Сказки РГО составили около трети собрания Афанасьева. Остальные материалы он добывал, сотрудничая с любителями старины в различных уездах страны, изучая старинные рукописи в архивах… Около 10 сказок были записаны Афанасьевым в родной губернии. Кроме того, в сборник вошли народные сказания из личного архива создателя толкового словаря Владимира Даля. В итоге с 1855 по 1863 годы свет увидели 8 выпусков «Народных русских сказок», общим объемом в 600 текстов. По богатству материалов это собрание превосходило все подобные издания. Не менее важно и то, что Афанасьев позаботился о том, чтобы передать оригинальный колорит русской сказки: в отличие от братьев Гримм (которых, к слову, он высоко ценил как исследователей и популяризаторов фольклора), Александр Николаевич «вольных переделок» не допускал. Так что в его собрании звучит живой голос народа!
 | Все, что было искалечено, Афанасьев был вынужден выбросить и затем приступил к печатанью уцелевшего, однако он не сдался и за границей опубликовал полные варианты своих трудов |  |
У истоков «сказковедения»
Афанасьев не ограничился публикацией сказок, но и выступил, как один из родоначальников «сказковедения»: издание сопровождалось комментариями и ссылками на похожие сказочные сюжеты в культуре других народов.
За сказками последовали собрания народных легенд, песен, пословиц, многочисленные научные статьи, а затем и создание фундаментального труда «Поэтические воззрения славян на природу». В этом исследовании Афанасьев выступил как представитель нового «мифологического подхода» к изучению сказок, находя в них отголоски древних представлений о природе. Правда, порой, ученый увлекался и невольно упрощал происхождение некоторых сказочных сюжетов. Так, к примеру, в пиве, которое пьет былинный богатырь в одной из сказок, он видел образ дождя.
Сказочник-диссидент
За вклад в изучение народной культуры ученый получил высокие награды РГО. Его «Народные русские сказки» заслужили лестные оценки зарубежных коллег. Тем не менее, в задуманном автором виде труды Афанасьева свет в России так и не увидели. Все они подверглись жесточайшей цензуре, а часть из них и вовсе оказалась под запретом. Дело в том, что ученый не боялся включать в сборники тексты, в которых проглядывала народная критика заевшихся господ, а уж что-что, а пословицу: «Сказка – ложь, да в ней намек», русские бюрократы усвоили хорошо. Собрание «Народные русские легенды» было запрещено III отделением (органом политического сыска имперской России), а про последние выпуски «Народных русских сказок» Афанасьев с болью писал друзьям: «Получил половину рукописи, израненную кровавыми чернилами. Все, что было искалечено, был вынужден выбросить и затем приступил к печатанью уцелевшего…» Однако он не сдался и опубликовал полные варианты своих трудов за границей.
«Тайный корреспондент» Герцена
Большая часть афанасьевских собраний была опубликована в лондонской Вольной типографии «дедушки русской революции» Герцена, созданной специально для того, чтобы сделать доступными для читателя запрещенные в России произведения. Более того, историки называют Афанасьева в числе «тайных корреспондентов» Герцена, поставлявших для печати «всё написанное в духе свободы». Это сотрудничество подпитывал журнал «Библиографические записки», который ученый издавал вместе с Николаем Щепкиным (сыном знаменитого артиста). В этом журнале печатались многие видные историки и литературоведы, а то, что не пропускала цензура, переправлялось за границу. Однако III отделение тоже не дремало.
Нищий, но не сломленный
В 1862 году жандармы произвели в квартире Афанасьева обыск и хотя официальных обвинений ему никто не предъявил (ничего предосудительного не нашли), ученый был вынужден покинуть государственную службу. Несколько лет он перебивался случайными заработками. Чтобы как-то прокормить семью продал за бесценок свою уникальную библиотеку… Наконец он устроился секретарем в Московскую думу, но по-прежнему терпел нужду. Однако даже в эти годы, полные лишений, ученый своих исследований не прекращал.
В 1871 году Афанасьев умер от чахотки. Еще до того, как известие о его кончине появилось в русской печати, английский журнал опубликовал некролог выдающегося этнографа Ролстона, где было сказано: «Как собиратель и комментатор русских сказок Афанасьев не имел соперников, и никто не сделал в этом деле так много, как он…»
Кстати
«Не для печати», – такая пометка стояла на рукописном сборнике Афанасьева «Заветные сказки», куда вошли «сказки для взрослых», нередко сдобренные крепкими выражениями, созданные простым людом, который, как известно, за словом в карман не полезет. Со временем ученый, которому было важно сохранить наследие устного народного творчества, во всей полноте все-таки решился издать «Заветные сказки» в Женеве. После революции они были переизданы в России.
Настольной книгой Есенина был труд Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». В этом же исследовании черпали знания по мифологии наших предков Достоевский, Островский, Блок, Хлебников, Пастернак… В советское время труд долгое время находился в забытьи, и только в 1981 году он был переиздан. Решение принял лично Андропов, тогда возглавлявший КГБ. Разрешить переиздание фундаментального афанасьевского исследования его убедил искусствовед Юрий Медведев.
«Не для печати», – такая пометка стояла на рукописном сборнике Афанасьева «Заветные сказки», куда вошли «сказки для взрослых», нередко сдобренные крепкими выражениями, созданные простым людом, который, как известно, за словом в карман не полезет. Со временем ученый, которому было важно сохранить наследие устного народного творчества, во всей полноте все-таки решился издать «Заветные сказки» в Женеве. После революции они были переизданы в России.
Настольной книгой Есенина был труд Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». В этом же исследовании черпали знания по мифологии наших предков Достоевский, Островский, Блок, Хлебников, Пастернак… В советское время труд долгое время находился в забытьи, и только в 1981 году он был переиздан. Решение принял лично Андропов, тогда возглавлявший КГБ. Разрешить переиздание фундаментального афанасьевского исследования его убедил искусствовед Юрий Медведев.